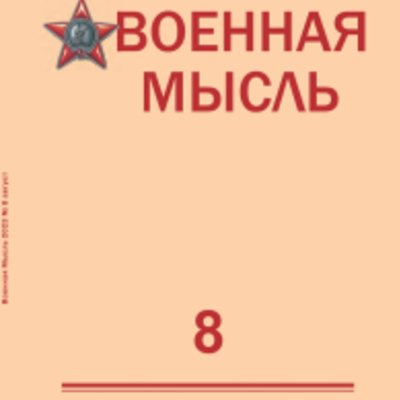
Противоборство охватывает несколько взаимосвязанных направлений борьбы, где важнейшими являются мир киберпространства, обработка больших объемов данных, квантовые исследования, технологии искусственного интеллекта (ИИ), использование разведывательно-ударных воздушных и морских беспилотных аппаратов, гиперзвук, космические системы связи и геопространственной разведки, радио- и радиотехнической разведки, нано- и биотехнологии и совершенствование человека, энергетика и двигательные установки, новые материалы и современное производство.
Военную техносферу формирует комплекс искусственных объектов и связей между ними, созданных человеком путём поэтапного синтеза как давно известных, так и новейших технологий.
Развитие техносферы играет ведущую роль в создании условий для революции в военном деле (РВД). РВД охватывает военные стратегии и концепции и оказывает определяющее влияние на их развитие, порождает новые формы и способы ведения вооружённой борьбы, меняет подходы к организации вооружённых сил и управлению боевыми действиями, к кадровой политике и др. Структуру РВД составляют преимущественно военно-технические факторы, определяющие причины, движущие силы РВД, оказывающие решающее влияние на характер или отдельные её черты. Это-
новые технологии и новации вооруженных сил, средства вооружённой борьбы, системы вооружений, изменения в формах и способах применения военной силы, включая совершенствование управления на основе сетецентрических технологий, новые требования к военным кадрам.
Каждый из перечисленных факторов прямо относится к появлению и развитию стратегий гибридной войны и использования её инструментов, играющих важную роль в трансформации современных конфликтов, в формировании современной операционной среды (СОС).
Степень и механизмы влияния стратегий гибридной войны на формирование современной операционной среды, на структуру и движущие силы изменений в военном деле ещё предстоит определить, однако уже сегодня можно утверждать, что этот симбиоз должен рассматриваться как один из спусковых крючков очередной РВД, начавшейся в XXI веке и совпадающей с пятым технологическим укладом.
Пересматриваются доктрины сдерживания, НАТО, например, ускоренными темпами переходит от стратегии сдерживания путём возмездия к сдерживанию путём отрицания, что означает кардинальную трансформацию военно-силовой и военно-технической политики альянса с учётом роста киберугроз и военного использования космоса, развития технологий ИИ и угрозой его применения в военно-политических целях. По-новому заявляют о себе угрозы, связанные с цифровизацией и усилением фактора цифровых технологий в организации и манипулировании протестными движениями. Опыт современных военных конфликтов, в том числе СВО, свидетельствует о взрывном росте сетецентрических технологий.
Прокси-война как детерминант современных военных конфликтов
Важное место в сдерживании противника путём наращивания угрозы применения силовых и не силовых способов воздействия в стратегических документах США и НАТО сегодня отводится гибридной войне и прокси-войне как её инструменту. Развитие военной техносферы на фоне хаотизации обстановки в мире и фактического краха глобализации по-новому ставит вопрос о прогнозировании и стратегическом планировании внешней политики государства и совершенствовании его способности применять наступательные и оборонительные меры силового и несилового характера.
Подготовке Стратегии национальной безопасности США от 12 октября 2022 и Стратегической концепции НАТО, принятой в июле того же года предшествовали комплексные исследования вопросов обороны и внешней политики, проведенные Пентагоном и Госдепом, исследовательской корпорацией «РЭНД», Центрами передового опыта НАТО.
США в действиях против России сделали ставку на то, чтобы одолеть нашу страну без прямого столкновения. Американцы надеются, что развязанная ими прокси-война на Украине и угроза распространения прокси-войн в Европе (например, с участием Польши, стран Балтии и Финляндии), на Кавказе, в Центральной Азии, на Дальнем Востоке, на Балканах, в АТР и Арктике позволит им через значительное ухудшение социально-экономического положения внутри РФ оказать решающее воздействие на слом политической системы и добиться её последующей переориентации на Запад.
Одновременно ставится задача добиться отказа России от установления многополярного мира в пользу такого мироустройства, в котором Москве отводилась бы роль второстепенной региональной державы при подчинении российских национальных интересов глобальным приоритетам США, во многом определяемых противостоянием между Вашингтоном и Пекином. Ослабленную и раздробленную Россию планируется использовать в качестве сырьевой базы в грядущем американо-китайском конфликте за мировое доминирование.
Происходит радикальный пересмотр военных стратегий и концепций США. Правящие элиты Вашингтона начинают склоняться к мысли от отказе от планов, построенных на способности Америки одновременно вести и выиграть две крупные региональные войны (например, против России и Китая). Взамен предполагается «умерить аппетиты» и готовить вооруженные силы к ведению одной крупной и одной прокси-войны в разных регионах.
Эти соображения связаны с признанием факта снижения потенциала США в качестве глобальной доминирующей силы, ранее считавшейся способной вести две крупные войны на разных ТВД. Поэтому Пентагон медленно отступил от концепции сил, способных участвовать в двух войнах. Теперь расширяется ставка на прокси-войны, способные обеспечить интересы США при минимальных потерях собственных войск.
Прогнозирование будущих конфликтов
Разумеется, подобные признания, которые звучали и раньше, стимулируют попытки дать упреждающий ответ на жизненно важные вопросы, волнующие политиков и военных. Обращают на себя внимание попытки аналитиков понять: каковы могут быть причины будущих войн, их география, противники, стратегии и технологии, баланс между силовыми и не силовыми способами противоборства. Широкий размах такие прогностические исследования традиционно получают в США.
В докладе корпорации РЭНД «Будущее войны в 2030 году» утверждается, что список противников США, вероятно, останется неизменным, но состав союзников Вашингтона, скорее всего, изменится:
1.Китай, Россия, Иран, Северная Корея и террористические группировки останутся главными соперниками США;
Растущее влияние КНР, скорее всего, изменит список союзников США в Азии, поскольку многие страны региона застрахуются от китайской власти;
В Европе воля и способность традиционных союзников США участвовать в силовых акциях, особенно за рубежом, вероятно, уменьшатся. Снизится уровень их доверия к гарантиям безопасности США.
Пытаясь заглянуть за туманную кромку будущего, американские аналитики пессимистично констатируют: «США в 2030 году могут постепенно потерять инициативу и возможность диктовать свою стратегию миру и определять, когда, где и почему произойдут войны будущего».
В целом доклад отражает нарастание достаточно пессимистических настроений в военно-политических кругах США, что связано с понижением возможностей Вашингтона реагировать на широкий спектр военных кризисов: борьба с терроризмом, конфликты в серой зоне, асимметричные бои и бои на высшем уровне. При этом способность США использовать санкции вместо насилия будет снижаться по мере относительного снижения экономической мощи США и союзников. Укрепление центров силы в Азии, Европе и на Ближнем Востоке может ослабить систему сдержек и противовесов и создать стимулы для будущих конфликтов. Поскольку американские противники становятся все более напористыми и наступают на красные линии союзников США, Соединенные Штаты могут оказаться перед трудным выбором: вступить в войну, которой они не хотят, или бросить союзника. Внешние силы могут спровоцировать конфликт, такой как несчастные случаи и непреднамеренная эскалация, кризис, вызванный изменением климата, или конфликт из-за ограниченных ресурсов. Рекомендации аналитиков РЭНД сводятся к повышению способности США действовать на большой дистанции и оставаться вне поля зрения противников.
В другой работе РЭНД «Вглядываясь в хрустальный шар. Целостная оценка будущего войны» среди важных политико-военных тенденций отмечаются изменения в тактике, которую противники применяют для действий в «серой зоне», используя возрастающую агрессию, информационную войну, посреднические силы и тайные силы специальных операций для достижения региональных целей, оставаясь при этом ниже принятого в США уровня для обычного ответа.
В исследовании утверждается, что география конфликтов, в которых в период до 2030 г. Соединенные Штаты, скорее всего, будут воевать, не совпадает с местами, где конфликты могут быть наиболее опасными для интересов США. Основываясь на анализе тенденций, описанном в исследовании, и предполагая, что Соединенные Штаты будут пытаться сохранить свои позиции в качестве выдающейся глобальной военной сверхдержавы в мире, следует ожидать, что Вашингтон столкнётся с рядом углубляющихся стратегических дилемм при ведении военных действий. Противники - США Китай, Россия, Иран, Северная Корея и террористические группировки — вероятно, останутся неизменными, но союзники США могут измениться по мере того, как Европа становится все более фрагментированной и обращенной внутрь себя, а Азия реагирует на подъем Китая.
Искусственный интеллект как класс прорывных технологий при использовании в военных целях должен широко использоваться как в обычных, так и в нетрадиционных операциях. В принятом в 2020 году проекте техподдержки и операционного анализа Пентагон основывается на прогностических докладах на тему продвижения инновационных возможностей и технологий, которые могут применяться в сложных физических, электронных и боевых условиях.
Наиболее вероятными регионами противостояния считаются Индо-Тихоокеанский регион, Европа и Ближний Восток, хотя столкновение в ИТР может представлять наибольшую опасность.
В одном из недавних докладов корпорации РЭНД «Управление эскалацией в противоборстве в ИТР» предлагается модель для оценки вероятной реакции Китая на военную деятельность США.
Исследование рассматривает ключевые факторы, которые определяют мышление и реакцию Китая, оценивает, как характеристики действий США — их местоположение, вовлеченные союзники или партнеры, их военные возможности и действия публичной дипломатии, которые сопровождают их, — могут повлиять на реакцию Пекина через каждый ключевой фактор. В этом контексте рассматривается типология потенциальных реакций китайцев, организованных по уровню интенсивности конфликта.
Следует обратить внимание на обстоятельные рекомендации, которые даёт РЭНД политикам и специалистам по военному планированию США. Прежде всего, предлагается сбалансировать различные характеристики деятельности в регионе, чтобы снизить вероятность эскалации ответных действий КНР при одновременном достижении Вашингтоном ключевых целей. Во-вторых, считается что военная деятельность США, непосредственно связанная с Тайванем или включающая возможности, которые могли бы позволить США наносить удары по режиму КНР или ядерным целям, должна изучаться и планироваться с особой тщательностью. И, наконец, военным планировщикам США следует сосредоточиться на объединении мероприятий с меньшим риском, связанных с Тайванем, для усиления обороны острова. Считается, что менее масштабные или иным образом менее рискованные мероприятия потенциально могли бы существенно усилить обороноспособность Тайваня с течением времени при меньшей вероятности непропорционального агрессивного ответа КНР.
Прогнозируется, что будущие конфликты, вероятно, будут порождаться глубинными причинами: борьбой с терроризмом, стычками в «серой зоне», асимметричными боями и масштабными вооружёнными конфликтами, включая прокси-войны на границах России и в зонах её геополитических интересов.
Радикально меняются и подходы к сдерживанию – гибкой и «многослойной» концепции. В конечном счете, разница между тем, достигает ли желаемого эффекта сдерживающее действие, провоцирует ли оно противника или просто им игнорируется, зависит не столько от того, что делают Соединенные Штаты, сколько от того, как противники воспринимают их действия. Существует множество примеров провала американского сдерживания — будь то действия Ирана на Ближнем Востоке, наращивание давления вокруг Тайваня или, что наиболее показательно, проведение Специальной военной операции России на Украине. Считается, что, хотя сдерживание конфликта всегда предпочтительнее, Соединенным Штатам нужен жизнеспособный «план Б» на случай, если сдерживание потерпит неудачу.
Подготовка к будущим войнам требует повышения способности действовать на значительном удалении без соприкосновения с основными силами противника, совершенствовать военную техносферу, повышать точность ВВТ для минимизации ущерба и потерь. Все подразделения ВС должны будут расширить возможности в области информационно-психологической войны, особенно для операций в «серой зоне», широко внедрять технологии ИИ.
Задача выбора оптимальных вариантов развития военной техносферы прямым образом связана с учетом объективных характеристик и приоритетов развития технологического уклада, от которых в решающей степени зависят усилия, прилагаемые государством в научно-технической сфере.
Технологические угрозы со стороны НАТО
Совет директоров «Ускорителя оборонных инноваций НАТО в Северной Атлантике» (DIANA) в текущем году делает упор на укрепление устойчивости к энергопотреблению, повышение безопасности обмена информацией, а также на экологию, зондирование и наблюдение за земной поверхностью. В планах развития военной техносферы альянс отдаёт приоритет следующим направлениям:
− Интеллектуальные технологии, использующие искусственный интеллект и новые аналитические возможности;
− Взаимосвязанные технологии с охватом виртуальных и физических сфер;
− Распределенные технологии, суть которых заключается в использовании децентрализованных и крупномасштабных измерений, совершенствовании процедур и способов хранения и вычисления;
− Применение синергетических подходов в цифровых технологиях, что позволит объединить человеческий фактор, физическую и информационную сферы.
В результате важнейшими факторами, определяющими военную техносферу будущих войн, станут широкое внедрение интеллектуальных автономных систем, возросшее значение когнитивного доминирования, синергетика сфер ведения войны и больший упор на высокоточные дальнобойные средства поражения.
В «Основной концепции боевых действий НАТО» уделяется особое внимание следующим императивам развития военных действий и военной техносферы:
− добиваться когнитивного превосходства, что позволит лучше знать себя и потенциальных противников;
−Укреплять многоуровневую устойчивость за счёт синергетики межинструментальных связей и действий;
− Развивать способности по проецированию влияния и власти в зоне ответственности НАТО и за её пределами. Наращивать противодействие попыткам других субъектов формировать современную оперативную среду;
− Совершенствовать механизмы междоменного командования при проведение многосферных операций в разных (гибридных) сферах и обеспечивать военно-гражданского сотрудничество за пределами военной сферы;
− Внедрять интегрированную защиту ОВС НАТО от многосферных (гибридных) угроз.
В целом, анализ деятельности альянса свидетельствует, что вооружённый конфликт на Украине, самый дорогостоящий и технологически продвинутый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, подтолкнул Организацию Североатлантического договора к решительным усилиям, направленным на то, чтобы снова превратиться в ориентированный против России боеспособный боевой союз, которым она была во время холодной войны. Наращивается военное присутствие НАТО у границ России. В технологической сфере внедряется жёсткий и конкретный регламент планирования, учитывающий наличные промышленные мощности каждого члена альянса и оборудование. Планировщики НАТО в директивной форме сообщают союзникам о том, что является необходимым, а что – излишним.
Так, например, Дании было приказано прекратить тратить средства на национальную программу строительства подводных лодок, а от Канады потребовали предоставить в распоряжение НАТО самолёты-заправщики.
Расширены функции штаба ВГК ОВС НАТО в Европе (Монс, Бельгия). Теперь его задачи охватывают широкий спектр планирования военных конфликтов: от гибридной и прокси-войны до региональной войны, которая при выходе из-под контроля может перерасти в полномасштабный конфликт с применением ядерного оружия.
Опыт США и НАТО по стратегическому управлению совершенствованием военной организации, научно-технологическим развитием и оборонной промышленностью может быть полезен и для России.
Усиливаются технологические угрозы на Востоке
Япония, наряду с США, Китаем, Россией и Индией занимает почётное место в числе лидеров в технологической гонке. Стратегию страны в сфере военных технологий сформулировал министр обороны Японии Такеши Ивайя в выступлении в американском Центре стратегических и международных исследований в 2019 г.
В числе приоритетных направлений технологического развития он назвал:
- наращивание усилий в космосе с целью создания условий для нарушения систем командования и управления, контроля над информационными коммуникациями противника. В Японии создаётся специальное космическое управление, предназначенное для обеспечения превосходства в использовании космоса на этапах от мирного времени до чрезвычайных ситуаций.
- в 2023 финансовому году Токио намерено создать подразделение киберзащиты, подчинённое министру обороны. Это позволит усилить возможности киберзащиты внутри страны, в том числе для предотвращения использования киберпространства противниками в ходе вооруженного нападения на Японию. Численность персонала подразделения киберзащиты намечается увеличить с нынешних 800 чел. до 4000 к 2027 г.
- продолжится укрепление возможностей в традиционных областях, где планируется уделять приоритетное внимание наращиванию потенциала национальных ВВС за счет доведения общего количества истребителей-бомбардировщиков F-35 с нынешних 42 до 147 самолетов, что выведет Японию на первое место среди союзников США по числу машин этого типа. В числе планируемых для приобретения будут 42 самолета с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), которые могут взлетать с короткой ВПП или взлетать и приземляться вертикально без большой полезной нагрузки. Для размещения самолетов запланирована модернизация эсминцев класса «Идзумо» (IZUMO).
- Япония не исключает закупки современных дальнобойных ракет для вооружения самолетов F-35. По этому поводу министр обороны министр обороны с некоторой восточной витиеватостью туманно заметил: «когда речь заходит о ролях, которые разделяют США и Япония (т.е. США-копьё, Япония-щит. А.Б.), мы не собираемся их кардинально менять. Но если вы посмотрите на JASSM или LRASM, которые имеют относительно большую дальность действия, то, представив их с точки зрения реальных возможностей, мы могли бы – мы получим возможность поражать врагов, находящихся дальше».
Напомним, AGM-158 или JASSM ( Joint Air-to Surface Standoff Missile) -— американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей (квазистационарных) в любых метеоусловиях и в любое время суток. В зависимости от модификации JASSM имеют дальность действия 370 километров, JASSM-ER – 1000 километров, а JASSM-XR до 1800 километров. Снаряд имеет массу около 1100 кг и длину около 6 метров. Боеголовка способна пробивать 7,5 метра железобетона. JASSM интегрирована в состав вооружения бомбардировщики B-1, B-2 и B-52H, F-16 и F/A-18. F-15E и F-35.
Первые поставки JASSM-XR для ВВС США запланированы на 2024 г. Кстати, Польша добивается для себя возможности стать первым в мире после США обладателем этого оружия.
Ещё одним вожделенным для Японии типом оружия является AGM-158C LRASM (англ. Long Range Anti-Ship Missile) — противокорабельная ракета (ПКР) большой дальности, разрабатываемая по заказу ВМС США. Рассматривается как перспективное противокорабельное вооружение кораблей и палубных самолётов ВМФ США. Дальность — 930 км. Принята на вооружение в декабре 2018 года.
Принятие на вооружение ВС Японии современных высокоточных дальнобойных ракет и их носителей самолётов F-35 создаст дополнительную угрозу для ВС и объектов стратегической инфраструктуры России и Китая.
Таким образом, Япония в рамках сетецентричной стратегии предусматривает комплексное наращивание возможностей противоборства, включая, киберсферу, космос, дальнобойные высокоточные удары; развитие противовоздушной и противоракетной обороны на базе наземных и корабельных комплексов «Иджис»; беспилотные системы, разведку, связь и устойчивое командование и управление войсками и оружием.
Прогнозирование развития военной техносферы
В стратегиях России, США, Китая, Японии и других крупных держав по подготовке к будущим войнам подчеркивается императив удержания лидерства во внедрении в национальную экономику и военное дело достижений текущего и будущих технологических укладов. Каждый технологический уклад, начиная с изобретения пороха и появления паровых машин представляет собой совокупность принципиально новых прорывных для своего времени, высоких технологий, технологических платформ и технологических пакетов, объединенных в единую мультитехносистему.
На текущем – пятом технологическом укладе, который продлится до 2040 г., США и НАТО делают ставку на обеспечение теснейшего взаимодействия между нанотехнологиями и информационными технологиями, которое носит двусторонний характер. Информационные технологии используются для компьютерной симуляции наноустройств. И в то же время, нанотехнологии применяют для создания более мощных вычислительных и коммуникационных устройств. Важным свойством взаимодействия является его синергетический характер, когда взаимодействие в одной из сфер ускоряет развитие остальных. Созданные с помощью наноматериалов более мощные компьютеры позволяют усложнять модели, что в свою очередь ведёт к созданию новых био- и нанотехнологий и стимулирует развитие других инноваций.
Пятый уклад чаще всего называется информационным, поскольку на нём будут отбираться и проходить обкатку те нововведения, которые станут своеобразными локомотивами технологического развития на очередном (2040 - 2050 гг.) шестом технологическом укладе. Гипотетически его ядром должно стать объединение и синергетическое усиление достижений нано- био- информационных и когнитивных технологий.
Результатом такой конвергенции станет полное слияние перечисленных технологий в единую научно-технологическую область знаний, основанных на био- и нанотехнологиях, проектировании живых объектов, робототехнике и высоких гуманитарных технологиях, технологиях проектирования будущего и управления им.
В среднесрочной перспективе (2020-2040 гг.) инновации США и НАТО в военной техносфере включают в себя развитие исследований и практические разработки в следующих областях:
Большие данные (англ. big data), что связано с обработкой и хранением огромных объёмов информации при её высокой степени многообразия (гибридности).
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) рассматриваются как важнейший приоритет и локомотив развития многих областей технологического уклада, включая развитие всей военной техносферы в США и НАТО. ИИ позволит осуществлять поддержку принятия решений в управленческих задачах различного уровня, осуществлять автоматическое распознавание образов при дешифровке данных воздушной или космической разведки, при выполнении различных задач в киберсреде.
Квантовые технологии в обороне и безопасности определены как одна из ключевых новых технологий для дальнейшей разработки в интересах построения защищенных линий связи для надежной передачи чувствительной информации в сферах обороны и безопасности.
Космические возможности уже давно традиционно используются военными для решения задач позиционирования, навигации; комплексного тактического предупреждения и оценки угроз; мониторинга окружающей среды; коммуникации; разведки и наблюдения.
Взрывное развитие получают гиперзвуковые технологии.
Киберпространство определено как новая оперативная среда для действий в которой разрабатываются руководства по вариантам стратегического реагирования на значительную злонамеренную киберактивность.
7. Информационно-психологическая война (когнитивная война, КВ) ведется при все более широком использовании социальных сетей, обмена сообщениями в социальных сетях и мобильных устройств, что предоставляет противнику возможность подчинить себе общество, не прибегая к прямой силе или принуждению. Особая роль в КВ отводится технологиям ИИ.
8. Когнитивная биотехнология (КБТ) направлена на улучшение качества и быстроты человеческого мышления, восприятия, координации и воздействия на физическую и социальную среду.
9. Достижения в области нанотехнологий и синтетической биологии стимулируют производство новых искусственных материалов с уникальными характеристиками, которые позволят улучшить надежность и срок службы ВВТ, а также уменьшат вес/габариты оборудования и приведут к появлению новых устройств. Улучшатся возможности для промышленного производства, обслуживания и ремонта развернутой военной техники.
10. Одним из важных приоритетов является создание эффективных средств и способов противодействия гибридным угрозам, которые все чаще возникают в «серой зоне», где государственные и негосударственные субъекты используют гибридные тактики, такие как дезинформация, кибератаки, использование сил специальных операций.
Анализ направлений развития военных технологий показывает, что США, Россия и Китай, наряду с некоторыми другими государствами НАТО относятся к категории лидеров в области инноваций и продолжают доминировать по основным направлениям исследований и разработок.
Характерно, что фундаментальные достижения в области знаний официально признаны в США в качестве основы экономического роста и политического благополучия, поскольку согласно имеющимся в оценкам 1 доллар, вложенный в НИОКР, приводит к росту ВВП на 9 долларов. За последние 50 лет только в США возникло около 60% всех технических инноваций, а Вашингтон сохраняет лидирующие позиции в создании и коммерциализации информационных, военно-космических, биотехнологических и природоохранных технологий.
Наступательные и оборонительные стратегии России в военной техносфере
Прогнозы тенденций международного развития, современных конфликтов и адаптации доктрин сдерживания (одной из задач которого является предотвращение технологического доминирования другой стороны в условиях конфликтных и кризисных ситуаций) свидетельствуют, что пока не в полной мере удаётся интегрировать объективные и субъективные факторы, действие которых с одной стороны обусловливает хаос и нестабильность в мире, а с другой стороны. вызывает качественные изменения в военной техносфере и оказывает решающее влияние на ход и исход войны.
В контексте сдерживания следует учитывать, что США и НАТО форсированными темпами переходят от сдерживанием путём возмездия к сдерживанию путём отрицания, которое означает революцию в практическом плане: большее количество войск, постоянно базирующихся вдоль российской границы, более тесная интеграция военных планов Америки и союзников, увеличение военных расходов и более подробные и , нередко, императивные требования к союзникам в отношении конкретных родов сил и средств, хранение снаряжение для боя при необходимости в заранее отведенных местах.
На этом фоне разрозненно применяемые инструменты анализа и прогнозирования военно-политической обстановки не всегда и неполно позволяют получить адекватные оценки тенденций и факторов, влияющих на выработку стратегических управленческих решений.
Для России к числу факторов, обусловливающих необходимость проведения системных научных исследований по приоритетным направлениям развития военной техносферы и, главное, оборонной промышленности на современном технологическом укладе, следует отнести:
Первое. Адаптацию доктрин сдерживания, трансформация которых основана, с одной стороны, на глубоком понимании культурных ценностей других государств и логики выбора ими соотношения затрат и выгод, с другой – на радикальных изменениях в военном деле и военной техносфере, вызванных в том числе появлением концепции гибридной войны, которая сама по себе сформировала новый вид стратегического неядерного сдерживания.
В этом контексте требуется проведение комплексного анализа стратегий и тактик сторон в Специальной военной операции, опыта использования современного оружия и военной техники, влияния военной техносферы на современную операционную среду. Глубокого изучения требует проблема определения узких и уязвимых мест своих и противника для разработки оборонительных и наступательных стратегий гибридной войны.
Заметим, что на фоне стратегического теракта США против «Северных потоков» весьма уместно было бы устанавливать датчики обнаружения враждебной деятельности на подводных трубопроводах. Дорого, но труба дороже. Продолжить укрепление границ с Украиной, Польшей и другими враждебными странами как потенциальными театрами новых прокси-войн против России с использованием технических средств.
Второе. Влияние особенностей стратегической культуры на использование военной силы на политику потенциальных противников и на их способность обеспечить баланс силовых и не силовых способов в навязывании противнику своей воли. Важное место следует отвести изучению готовности противника к сопротивлению, его восприятия на решительную реакцию по поставкам оружия противникам России, на теракты против её населения и объектов собственности .
Одним из важных факторов стратегической культуры является толерантность к собственным военным потерям в общественном мнении государств. В США, в отличие, например, от России, Китая или Украины, общественное мнение весьма чувствительно к собственным военным потерям.
Пока в США рассматривают организованную Вашингтоном прокси-войну на Украине как мало затрагивающую интересы и быт американцев. Мол, мы ослабляем «агрессивную» Россию, потерь не несём, хорошо зарабатываем на поставках Киеву оружия и боеприпасов, которые он при помощи американских инструкторов, в безопасности и по-хозяйски чувствующих себя на Украине, использует для убийства русских солдат. При полном безразличии и даже науськивании США и НАТО происходит настоящая «варваризация» войны, казни русских солдат с издевательствами над военнопленными и телами убитых, изъятие органов, применение боеприпасов с наконечниками из обедненного урана и т.п.
Пришло время дать Вашингтону понять, что подобные подлости, сделанные чужими руками, сегодня не проходят. США относятся к группе стран, считающих для себя возможным делать гадости другим при «нулевом» уровне собственных потерь. Это у них получилось при бомбардировках беззащитной Сербии в 1999 году. Тогда американцы на всех перекрёстках твердили о торжестве принципа «zero losses, нулевые собственные потери» в операции «Союзная сила», оставляя «за скобками» сотни убитых их бомбами мирных сербов и разрушение страны.
Можно предположить, что связанные с расширением поставок американского современного оружия неизбежные потери среди американских инструкторов и наёмников в зоне боевых действий на Украине, наша продуманная реакция на теракт против «Северных потоков», нарастающая волна перехода ряда государств на расчеты в национальных валютах и т.п. ускорят прозрение в американском общественном мнении в отношении адекватности действий нынешней администрации.
Третье. Отсутствие у России чётких критериев оценки надёжности отношений с союзниками и партнёрами в условиях формирования многополярного мира, прогнозов их возможного поведения при обострении ВПО, их готовности к сотрудничеству в военной и военно-технической областях. Важно, чтобы союзники понимали возможные последствия предпринимаемых ими внешнеполитических шагов, связанных с «заигрыванием» с противниками России и попытками «усидеть на двух стульях» с явным ущербом для национальной безопасности нашей страны и отношений с ними в оборонной сфере.
Четвёртое. Недостаточная изученность особенностей современного технологического уклада в его взаимосвязи и взаимовлиянии с состоянием военной техносферы и возможностей оборонной промышленности. С учётом опыта СВО в разработке новых военных технологий важное место следует отвести вопросам разработки и массового выпуска новых образцов ВВТ, обеспечения точности и адекватности разведданных, интеграции и использования данных, собранных различными видами разведки, скрытной связи на тактическом и оперативном уровнях. Такие инновации должны придать импульс развитию стратегии сетецентрической войны, которая в течение обозримого будущего будет определять противоборство в военных конфликтах ХХI века. «Локомотивом» развития такой стратегии должны бы стать изменения в военной техносфере в решающей степени зависящие от возможностей оборонной промышленности.
В этом контексте в оборонной промышленности назрели качественные изменения самой структуры, основанной сегодня на холдингах и корпорациях, главной целью которых является максимизация прибыли. Вопросы развития и инноваций, связей с наукой и внедрения в производство новых образцов отошли на второй план. Отсюда и отставание в массовом производстве новых образцов ВВТ. Здесь же стоит упомянуть и проблемы импортозамещения, обновления станочного парка и пр.
Требует пересмотра и радикальных решений и кадровая политика, поскольку практический опыт значительной части нынешних «эффективных менеджеров» в оборонной промышленности сформировался, главным образом, в процессах освоения государственных средств. Подобная квалификация не позволяет рассчитывать на грамотное решение вопросов развития промышленности, внедрения инноваций, на конструктивный диалог с оборонными НИИ, с конструкторами ВВТ и конечными потребителями продукции в войсках. Нередко процветают элементарная «показуха» и имитация развития. Напрашивается обращение к опыту кадровой политики в военной промышленности, жёсткого контроля выполнения решений и ответственности накануне и в ходе Великой Отечественной войны.
Пятое. С учётом опыта СВО нуждаются в дополнительной научной проработке вопросы обеспечения специальной техникой и оружием стратегии и тактик ведения боевых действий в городах и населенных пунктах. В частности, необходимо решительное развитие средств противобатарейной борьбы с использованием для этих целей БПЛА и быстродействующих закрытых систем связи, целеуказания, роботов, способных проникать в туннели, подвалы зданий, превращенных в опорные пункты;
Шестое. Недостаточно разработана стратегия публичной дипломатии для противоборства с пропагандистскими кампаниями противника и использования своих культурных ценностей, умелое выдерживание баланса жёсткой и мягкой силы во внешней политике.
Для эффективности политики России обеспечения инновационного лидерства на пятом технологическом укладе и формирования военной техносферы, соответствующей реалиям конфликтов современности, особую важность приобретают следующие факторы :
- чёткая идеологическая установка правящих элит, политиков, дипломатов, учёных, промышленников и военных, всего населения в целом на завоевание достойного места в группе лидеров в научно-технической сфере;
- осознание всеми уровнями власти необходимости научно-технического прогресса как важного фактора стабильного развития страны и обеспечения её безопасности.
Крайне своевременным является утверждение премьер-министром М. Мишустиным приоритетных направлений по обеспечению технологического суверенитета страны, реализация которых будет способствовать достижению этой цели, а также позволят провести структурную адаптацию экономики. Работа будет вестись по 13 направлениям: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика. В число приоритетных вошли отрасли, где уровень локализации производства сейчас менее 50% и критические для обеспечения технологического суверенитета направления.
- тесное сотрудничество государства во внутренней и внешней сферах в осуществлении крупномасштабных проектов в рамках технологического уклада.
Происходящие с течением времени корректировки государственной научно-технической политики не должны затрагивать общей установки на обеспечение инновационного лидерства и формирование современной военной техносферы. С этой целью считать одним из приоритетов разработку на межведомственной основе «высшей стратегии» и поддержание на достойном уровне мощной и современной научной и производственной базы, а также формирование значительных государственных, корпоративных и коалиционных средств, позволяющих осуществлять крупномасштабные проекты в сфере укрепления и развития военной техносферы.
В США своеобразным аналогом высшей стратегии государства для подготовки и ведения Мировой гибридной войны является документ «Совместная концепция конкуренции, СКК», подписанный в 2023 г. Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом М.Милли. Документ содержит анализ изменений, необходимых в стратегии США в условиях формирования нового миропорядка и является «поворотным пунктом» на пути серьезного отхода правящих элит государства от прошлых взглядов Америки на ведение войны.
СКК настраивает страну и вооружённые силы на долгосрочное противоборство с использованием военно-силовых и не силовых способов борьбы, что в полной мере коррелируется с известной стратегией мировой гибридной войны и уходом в прошлое концепции «двух войн». России следует быть готовыми к развязыванию прокси-войн с участием Польши, стран Балтии и Финляндии, на Кавказе и в Центральной Азии, на Дальнем Востоке и в Арктике.
Решение комплекса задач инновационного и научно-технологического развития России требует неослабного внимания к поддержанию в рабочем состоянии следующих инструментов научно-технической политики государства:
- проведение комплекса мероприятий по развитию собственного программного обеспечения, в первую очередь для использования в промышленности и в военном деле, во-вторых, развития национальной базы станкостроения и микроэлектроники, в-третьих, подготовки высококвалифицированных специалистов, способных использовать данные технологии и передавать знания молодёжи, обеспечение продуманной ротации кадров;
- проводимая в жёсткие сроки государственная экспертиза инновационных проектов с целью оценки возможных эффектов в общеэкономическом масштабе, поддержка изобретателей;
- активное участие государства в финансировании крупномасштабных проектов вплоть до полного государственного финансирования наиболее эффективных и наукоёмких фундаментальных и прикладных исследований и внедрения результатов в промышленное производство и в войска;
- стимулирование создания венчурных фондов путём частичного или полного финансирования в течение первых лет наиболее эффективных исследовательских центров и отдельных изобретателей;
- усиление антимонопольных мер по отношению к структурам, препятствующим конкуренции в наукоёмких отраслях;
- ориентация образования и научных исследований на техническую сферу, принятие мер по сокращению «утечки мозгов» и возвращению в Россию талантливых научно-технических работников;
- своевременное принятие законодательных актов, необходимых для развития научно-технической и инновационной сфер.
Задача достижения технологического суверенитета должна стать одной из приоритетных при разработке «высшей стратегии» идея которой была выдвинута академиком А.А. Кокошиным в работе «Политико-военные и военно-стратегические проблемы национальной безопасности России и международной безопасности».
В условиях растущей конфронтации в мире при изрядном вкладе в неё военно-технических направлений противоборства, правительство РФ должно взять на себя полную ответственность за развитие фундаментальной и прикладной науки, безусловную поддержку РАН, НИИ, исследовательских центров университетов и военных академий, талантливых изобретателей как важных инструментов обеспечения национальной безопасности, технологического и военно-технического прогресса.
С учетом разработки и внедрения в США новейших стратегий и концепций мировой гибридной войны, острие которой направлено против России, Китая, их союзников и партнёров развернуть исследования феномена гибридных войн с учетом следующих факторов:
- нарастающей гибридизации мировой политики и появления новых многосферных гибридных угроз национальной безопасности;
- назревшей необходимости обобщить опыт гибридных военных конфликтов в Сирии, Ливии, на Украине, в странах Латинской Америки. Отдельного анализа требует опыт ведения США и их союзниками гибридных войн против России и Китая;
- потребности в кардинальной перестройке военной техносферы за счёт ускоренного внедрения сетецентрических приёмов и способов войны, соответствующих военно-технических инноваций в стратегию, оперативное искусство и тактику наших Вооружённых Сил.
Работа по указанным и некоторым другим направлениям носит императивный характер и требует как можно большей оперативности при переходе от анализа и стратегического осмысливания комплекса проблем к оперативному использованию результатов.
Важным этапом такой работы должно стать создание в России и обеспечение кадрами, обладающими высокой научной квалификацией и практическим опытом работы, полноценного института «Стратегических исследований и прогнозов», способного оперативно снабжать руководящие органы страны необходимой информацией и обоснованными рекомендациями по всем сферам гибридного противоборства. Необходимо расширение международного измерения проблем исследований современной военной техносферы с привлечением учёных стран ОДКБ. ШОС и БРИКС.
В этом контексте заслуживает внимания наметившийся в Китае интерес к проблемам гибридной войны в их приложении к военным конфликтам современности. Показательной является статья китайского исследователя Го Фенли «Гибридная война в исследованиях ученых Китайской Народной Республики». Автор, аспирант МГУ, обоснованно отметил, что несмотря на наличие у Китая собственной концепции «неограниченной войны», альтернативной западному проекту гибридных войн, в целом наблюдается значительное отставание китайских исследователей в области гибридной тематики, включая военную техносферу (по сравнению со степенью разработанности данной темы в США и России).
Обеспечить условия для плодотворной работы учёных, инженеров, специалистов информационных технологий, изобретателей, высоко квалифицированных рабочих и техников, чтобы предотвратить их выезд за рубеж. Снять неоправданные барьеры при защите докторских диссертаций, которые тормозят продвижение молодых талантов. Следует поддерживать инициативы, направленные на проведение прикладных научно-технических исследований по созданию технологий двойного предназначения, в том числе, по государственным контрактам. В целом курс на поддержку научно-технических инноваций представляет собой важнейшее условие обеспечения технологического суверенитета, безопасности и стабильного развития России в формирующемся новом миропорядке.