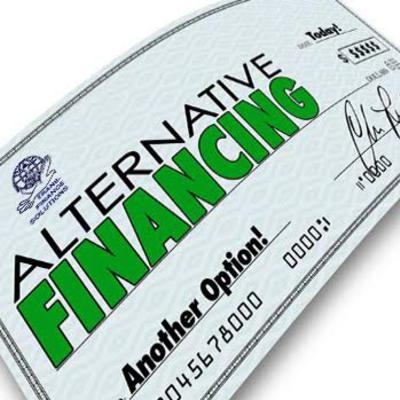
Смена оффшорой экономики России на «деофшорную» стала реальностью, неизбежной как смена времен года. Законодательство о КИК - это просто сводки центральной метеослужбы о грядущем похолодании (в финансовом смысле). Можно не обращать внимания на прогнозы и пытаться «закопать» зарубежные активы (в ожидании «глобального потепления»?), благо остающаяся не у дел армия оффшорных «специалистов» щедра на обещания как-то решить проблему. Таких решений придумано немного, и они могут дать, в лучшем случае, сиюминутный эффект. Предлагается реструктуризация активов с переписыванием их на дальних родственников или вообще посторонних людей (по сути – номиналов) и перевода капитала в самые дальние офшоры. К сожалению, эти полумеры сегодня чреваты частичной потерей контроля над активами, а завтра - потерей самих активов. В новых условиях нужно уметь оценивать риски; перейти от пассивного запрятывания активов к активному инвестированию, от обезличенных механизмов управления активами (массового продукта оффшорной индустрии) к более сложным и сугубо персонализированным схемам; не полагаться на аутсорсинг (С какой стати кто-то лучше вас знает ваши проблемы?), а вникать в финансовые схемы и процедуры их исполнения. Да, это требует серьезной смены финансового мировозрения, приспосабливания к обстановке (и дополнительных затрат), но здесь есть и существенный плюс – возможность приспособиться к новым реалиям, сохранить активы и даже приумножить их.
В статье «Оффшор умер – Да здравствует «умный мидшор»! (VIPERSON от 6 апреля 2017) я уже писал, что время дешевых и простых решений кануло в лету, а в статье «Оффшорный Конструктор: Финансовая Технология 2017 года» (VIPERSON от 10 апреля 2017) было показано, почему нельзя игнорировать глобальные изменения в международной финансовой сфере. О пользе нового мировозрения рассказывалось в статье «Неоффшорный оффшор: как перестать бояться и возлюбить КИК» (VIPERSON от 21 апреля 2017). Лейтмотивом всех перечисленных статей проходит мысль, что оффшор был временным механизмом, собранным из элементов, характерных для стран общего права (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США, Канада, Сингапур), а также экономической территории Гонконг. Механизмом, обеспечивающим управление рисками, разумный уровень конфиденциальности, сохранение и прирост капитала. Россияне знакомились с этими понятиями в оффшоре, однако они возникли намного раньше и будут существовать вечно. Важно понять, что их никто не отменял (и никакой FATF никогда не отменит) и из них конструируется новый механизм. Нужно только понять как он работает в нынешних условиях повышенного финансового риска.
Оказывается, что идея управления рисками в странах общего права унаследована еще из римского права. Цицерон, знаменитый римский сенатор и оратор (106-43 гг. до н.э.) предложил шесть вопросов для оценки рисков при принятии финансовых решений. Первые два вопроса касаются личной ответственности: Кто? (принимал решение) и Как? (пришел к этому решению). Следующие два вопроса характеризуют исходные данные: Где? (было принято решение) и Когда? (было принято это решение и при каких условиях). Последние два вопроса Цицерона: Что? (именно было связано с решением, может ли оно впоследствии быть изменено) и Почему? (было принято решение, какую цель оно преследовало, кому это выгодно, был ли конфликт интересов). Оценка финансовых рисков вопросами Цицерона показывает возможное нарушения доверия. Прежде чем отдавать управление финансовыми активами на аутсорсинг, задайте эти шесть вопросов.
Заговорив о доверии, мы сталкиваемся с давней традицией доверительного управления - институтом траста (в переводе с английского «доверие»). Современная концепция трастового права берет свое начало в английском праве, вытекающем из феодальной собственности на землю в двенадцатом веке. В средневековой Англии феодалы использовали доверительные отношения для предоставления земли другим лицам, чтобы избежать сборов и налогов, подлежащих уплате королю. Знакомо, не правда ли? Россияне познакомились с трастом, подписывая «Declaration of Trust» в оффшоре. Однако это был «ублюдочный» траст - при номинальном сервисе учредитель траста и бенефициар были представлены одним и тем же лицом. В странах общего права такой траст считается притворным, потому что у бенефициара есть права в любой момент прекратить отношения и забрать активы обратно (это оформлялось с помощью не датированного «Instrument of Transfer» на акции). Такое понимание траста попало и в законодательство о КИК, где бенефициару предписано раскрыть информацию о трасте. Если бенефициар не притворный (как это было в оффшоре), то ему нечего раскрывать ... потому что он ничего и не должен знать. Класс номиналов исчез, однако полноценный траст жив и здравствует поныне. Нужно отметить, что траст учреждается индивидуально, т.е. под конкретную проблему и соответствующий состав активов.
Пожалуйста, не считайте слово «траст» синонимом слова «простодушие». Напротив, в западной финансовой практике оно неразрывно связано с термином «due diligence», которое можно перевести как «разумную осторожность». Термин впервые появился в United States Securities Act в 1933 году и с тех пор прочно вошел в практику, в т.ч. в смысле доскональной проверки текущей ституации с активами для эффективного избежания и максимального снижения возможных рисков, в т.ч. утечки конфиденциальной информации, инициирования судебных тяжб и их неблагоприятных последствий, наложения взысканий и штрафов, привлечения к налоговой или уголовной ответственности, даже утраты активов. В современных процедурах due diligence по управлению активами, античный подход Цицерона дополняется современными методами расчета рисков. Как насчет банковской тайны? Сегодня ее больше не существует, даже в Швейцарии, где законодательство (Article 1 of the Federal Banking Law) требует ее соблюдать.
Последний по порядку, но не по значению, вопрос об эффективности хранения и использования капитала. Не секрет, что банки неуклонно приближают депозитный процент к нулю и даже поговаривают о возможности негативных процентов. В этих условиях нужно оценивать не только риски, но и возможную доходность размещения активов, точнее соотношение «доходность-риски» за счет выполнения работ feasibility studies (оценки возможностей получения дохода с рассмотрением финансового замысла как инвестиционного проекта). Методы проведения feasibility studies были предложены Международным центром промышленных исследований при UNIDO в 1972 году (книга «Инвестиционный проект: Ваш бизнес за рубежом» доступна для скачивания на VIPERSON). В российскую действительность эти методы вошли, но используются достаточно формально – для обоснования решений, принятых волевым или иным неэкономическим методом.
На практике все перечисленные процедуры используются в комплексе, снижая риски и обеспечивая сохранность финансовых активов, ограничивая доступ третьих лиц к информации о структуре бизнеса и его операциях (насколько это сегодня возможно в условиях действия стандарта ОЭСР по обмену налоговой информацией). В данный комплекс также входят инвестиционные схемы, учитывающие индивидуальные отношения к риску, а также схемы налоговой оптимизации. Интересуетесь, как это сделать на практике? Отправьте запрос на конфиденциальную консультацию на info@transfinancesolutions.com.