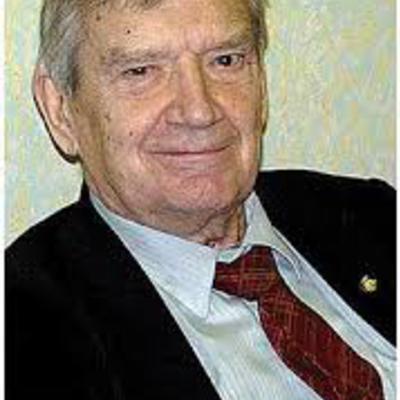
С самого раннего детства я очень хорошо помню запах отца. Это были чудесные миазмы теплого бака мотоцикла ИЖ-49 и кожаной рыжей английской куртки с клетчатым подбоем. Выхлоп двухтактного ИЖа стал навсегда лучшим для меняароматом. Я сидел в тюбетейке, как все советские дети, между надежными руками папы на зеленом баке и обмирал, когда мотоцикл ложился вбок на вираже или взлетал на ухабах.
На мотоцикле отец ездил и на Зацепу в Московский инженерно-физический институт (МИФИ), первым ректором которого он стал в тридцать пять лет. Бдительный охранник его по-первости не пропускал – молод больно для начальника.
Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов, или ВГ, как звали его близкие друзья, был очень лихой человек. Летом в шестидесятые годы он брал меня по субботам и воскресеньям в новое здание построенного им Московского инженерно-физического института на Каширке на тренировки знаменитой тогда в СССР секции мотокросса. Руководитель секции Георгий Валентинович Жемочкин – Тиныч часто давал отцу мощнуюкроссовую Чезетту полетать по ямам. Уже в начале семидесятых в секции у Тиныча я получил мотоциклетные права.
Когда я появился на свет, родители жили в доме № 4/22 на Набережной Максима Горького в Москве. Около Устьинского моста, напротив Котельнической высотки. Сначала мы жили с родителями, старшим братом Андреем и двумя бабушками в трехкомнатной коммуналке в двух комнатах. По тогдашней правительственной стратегии в коммунальном общежитии должны были соединяться разные сословия – служащие и рабочие, научные работники и продавцы, артисты и сталевары. Нашим соседом был некто Шелемин, от которого я запомнил только полосатую пижаму и запах «Беломора» около мусоропровода. Еще у Шелемина была кошка по имени Зассыха и какой-то неиссякаемый источник тараканов. Дом 4/22 был построен центром атомной отрасли СССР Министерством среднего машиностроения, базовым учебным центром которого стал МИФИ. И вскоре наша семья заняла и третью комнату.
Нашим соседом по этажу в этом средмашевскомдоме был Александр Иосифович Андрюшин, директор с 1947-ого года Завода «А», впоследствии ставшим Заводом полиметаллов. Товарищ нашей семьи по лестничной клетке, а еще и директор череззаборного с МИФИ завода на Каширке познакомил отца со странным гением. Гения – автора художественно-философской системы «Иератизм» звали Михаил Матвеевич Шварцман. И вот два убежденных коммуниста и советских государственника уговорили Михаила Матвеевича – великого авангардиста, еврея и антигосударственника создать мозаики для МИФИ. В холле и библиотеке. Надо заметить, что Шварцман принципиально никогда в Союзе художников не состоял и, таким образом, как художник, для тогдашнего СССР как бы и не существовал вовсе. Но для страстно преданных атомной отрасли своей страны - двух руководителей эта проблема была ничтожна. И в самом начале шестидесятых годов прошлого века в центральном холле МИФИ появилась знаменитая впоследствии «иература» Михаила Шварцмана «Атомный конь», на которой могучая рука физика сдерживала под уздцы неукротимого в вихре электронных орбит яростного атомного коня. Это гениальное мозаичное панно стало с тех пор и логотипом МИФИ, и символом атомной отраслинашей страны.
В моих смиренных воспоминаниях об отце Викторе Григорьевиче Кириллове-Угрюмове везде будет настойчиво сквозить мысль, что советские времена нельзя отделять от великой истории Росси. И что в советские годы, несмотря на все трагические для нашего народа испытания, российская государственность, и как наследие ушедшей Византии, и как заповедь рухнувшей Российской империи, была чудом сохранена. И это былотяжелое преодоление гораздо более страшной, чем марксистско-энгельсовской идеи - идеилиберальной.
Отец был до мозга костей государственником. Детищем, порученным ему государством, был МИФИ. И институт ему был ближе и жены, и нас с братом. Отец Александр Шумский говорил, что Виктор Григорьевич был «служивым» человеком. И служил отец верой и правдой государству. В ту пору – Союзу Советских Социалистических Республик. Он ходил в институт до последних дней своей жизни. Уже с тремя формами рака. Добирался на метро в один конец больше часа. Если хотелось пить, он мог запросто попить из лужи.
У отца был культ бабушек. Его мамы Полины Семеновны Жуковой и тетки Анастасии Семеновны Жуковой. Обе Семеновны были заслуженными учительницами РСФСР и кавалерами Ордена Ленина. О линии Кирилловых-Угрюмовых говорить было не принято, да и нечего. Только много лет спустя я понял почему. Про деда Кириллова-Угрюмова Григория Никитича (Никитовича) была создана официальная домашняя легенда, что он служил в ЭПРОНе, работал водолазом на сложных подводных работах и умер от кессонной болезни. А дедушка мой Григорий – был крестьянским сыном из деревни ЗамыцкоеКалужской губернии, стоявшей на реке Лужа. Теперь от Замыцкого не осталось ничего, кроме бурьяна. Григорий Никитич служил до революции чертежником на Балтийском заводе в Петрограде и поступил в начале Первой Мировой войны на ускоренные четырехмесячные курсы подготовки прапорщиков в военное юнкерское училище имени Великого князя Владимира Александровича. В 1917-ом году юнкера ВВУ единственными из военных училищ не приняли большевистский переворот, вступили в бой и были расстреляны из трехдюймовых орудий. Погибло более двухсотюнкеров, а семьдесят мальчишек зверски убиты толпой. Григорий Никитич вместе с десятками уцелевших юнкеров ВВУ подался на восток к Колчаку, и какое-то недолгое время воевал под знаменами этого предателя в звании подпоручика. Кажется до кровавой бойни в Перми. Уже в 1924-ом году он вернулся домой и умер от неведомой мне болезни с кровохарканьем. Все эти документы мы собрали вскоре после смерти отца. И, слава Богу, что о судьбе своего отца ВГ не знал. Или не хотел? Или запрещали?
Время моего детства было пропитано совсем недавней войной. Когда строился крупнейший в то время в мире циклотрон в Протвино, мы привозили с папой огромные обезвреженные бризантные снаряды. Ими была напичкана под Серпуховым вся земля. Мои бабушки оторачивали снарядами круглые грядки с гладиолусами на садовом участке под Ступино.
Отец ушел на фронт в самые первые дни войны и семнадцатилетним мальчишкой отчаянно воевал в сводной 84-ой бригаде морской пехоты. 5 декабря 1941-ого года его ранило в страшных боях под Клином разрывной пулей. Едва спасли руку, оставив на память скрюченный навсегда палец. Идемобилизовали. Отцу повезло – он остался жив. Большая часть морпехов погибла, спасая Москву, на Перемиловских высотах. Вечная им память! Многие из них были совсем мальчишками, такими же, как старшина первой статьи Виктор Кириллов-Угрюмов.
Воспоминания о войне занимали в жизни ВГ огромное место. К сожалению, память человеческая не безгранична и отец больше рассказывал о войне, чем, например, о первых годах становления МИФИ. Мне пришлось по крупицам восстанавливать его рассказы, и рассказы свидетелей той поры. А жителей тех временосталось теперь всего несколько человек.
В 1942-ом году был создан Московский механический институт боеприпасов. И ВГ стал студентом первого в ММИБ набора. Снаряды наши были много хуже немецких, особенно хромали реактивные снаряды для «Катюш». И создание Института боеприпасов было очень важным длябоеспособности Красной армии. Вряд ли стоит забывать, что после окончания Гражданской войны не прошло еще и двадцати лет. И в СССР с колес восстанавливалась и строилась разрушенная войнами и революциями тяжелая и оборонная промышленность. Первых выпускников ММИБ, все из которых стали впоследствии выдающимися учеными и организаторами науки, пригласил к себе на государственную дачу Народный комиссар боеприпасов СССР Борис Львович Ванников, скороставший знаменитым «Ядерным наркомом». Угощал Борис Львович оголодавших застенчивых выпускников тушенкой и спиртом. Эту товарищескую встречу с всесильным Наркомом отец помнил всю жизнь. Наверное, с той поры ничего не было для папы слаще той тушенки и спирта образца военного 1944-ого года.
Чудом уцелев в страшной Великой Отечественной войне, отец больше не боялся смерти. Никогда. Смерть стала для него привычной спутницей, всегда напоминавшей ВГ о ценности каждой минуты уступленной ей ненадолго жизни. Однажды, в Дубне в гостях у академика Юрия Цолаковича Оганесяна я услышал самый пронзительный, наверное, рассказ об отце времени начала 1951 – ого года. Это рассказ, с позволения открывателя 118-ого элемента Таблицы Менделеева «Оганесона», записанный 13 ноября 2023-ого года в кабинете Директора Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне, я привожу полностью. Боясь утратить самую незаметную интонацию в повествовании великого физика.
20 минут. Рассказ Юрия Цолаковича Оганесян.
Я позвонил Юрию Цолаковичу, и он любезно согласился на встречу. Утром 13 ноября 2023 года в Дубне на площади перед Объединенным институтом ядерных исследований нас уже ждала машина с государственным номером 118 – атомным номером открытого Оганесяном последнего элемента Таблицы Менделеева «Оганесоном» – и зеленым шильдиком на приборной панели «Og». Юрий Цолакович ждал в своем директорском кабинете Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.
– Очень рад, очень рад! Садитесь, выпейте чаю и давайте перед разговором немножко расслабимся… Люда, – спросил он у секретаря, – а у нас есть там, чем немного расслабиться?
Через несколько минут мы выпили по рюмке настоящего армянского коньяка и…
И начался рассказ, в котором мы постарались сохранить всю свежесть и искренность повествования Юрия Цолаковича Оганесяна.
Записанный нами рассказ ведется от первого лица.
В рассказе, подобно пьесе, должны быть: содержание действующие лица, главные роли и исполнители. Постараемся придерживаться такого сценария. Итак, действие происходит в 1950 году, через пять лет после окончания Великой Отечественной войны.
Главные действующие лица. Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов (в дальнейшем ВГ), секретарь парткома Московского Механического института, человек, пришедший с фронта, видевший смерть в лицо и жаждущий знаний. Очень молодой, динамичный человек. В ту пору еще не то, чтобы большой ученый, но ведь и был он совсем еще молод. Науке и промышленности еще предстояло многое сделать в познании и использовании атомной энергии. В 1949 году в Советском Союзе прошли первые испытания ядерного оружия. Поражала огромная энергия, которая высвобождалась при взрыве атомной бомбы. Тогда и государство, и научное сообщество поняли, что этой проблемой надо заниматься очень серьезно. Виктору Григорьевичу судьбой было предопределено не только стать известным ученым в области ядерной физики, но и готовить кадры для атомной отрасли. Как человек, пришедший с фронта, молодой и быстрый он, естественно, был главным кандидатом на пост секретаря парткома учебного института. И он взял на себя эту ответственность. Включившись в турбулентную жизнь и работу тех лет, еще со студенческой скамьи, ВГ особенно не засиживался в институте, и, наверное, что важно для нашего дальнейшего рассказа, многие заседания парткома с ним как-то согласовывались дистанционно и по форме, и по содержанию.
Второй персонаж рассказа – Ваш покорный слуга, студент 1-го курса Московского Механического Института (ММИ), которому скоро исполнится 18 лет. Приехал из Еревана, окончив школу с серебряной медалью, с намерением получить высшее образование в столице. Как медалист он мог бы поступить в любой вуз Москвы без вступительных экзаменов, но в ММИ должен был еще в июне месяце, до вступительных экзаменов, пройти так называемое собеседование по физике и математике. Приехал в Москву. Ни друзей, ни родственников в Москве нет. Общежитие не дают, таки как формально в институт еще не зачислен. В гостиницу не принимают... И тогда мне пришлось ночевать на вокзалах. Первую ночь – на Курском вокзале, куда прибыл, но откуда со скамеек зала ожидания милиция гоняла нещадно. Пожилая женщина-уборщица посоветовала: «Ты отсюда уходи, тут ворье всякое! Иди лучше на площадь трех вокзалов. Там Ярославский вокзал, самый маленький, – но он хороший, уютный!» Пошел на Ярославский вокзал и жил там еще 9 дней. Оттуда и ходил на собеседования в ММИ, легко их прошел и уехал к себе домой в Ереван до 1-го сентября. До начала моей предстоящей жизни в Москве. Знал бы я тогда, что, когда поступлю в институт, буду ездить в институт через Ярославский вокзал каждый день!
А действие нашего рассказа происходит в Парткоме института, кажется в марте, после первого семестра. В повестке дня заседания последний вопрос – исключение студента Оганесяна из комсомола.
Докладывает секретарь комсомольской организации ММИ:
– Отлынивает от комсомольских поручений. Даже и разговаривать об этом не хочет, ссылаясь, что у него нет на это времени. У нас принято единогласное решение об исключении его из комсомола. Вот протокол!
И, обращаясь к Виктору Григорьевичу:
– В Ваше отсутствие с парткомом согласовано!
Вот и все подумал я!
– А учились как? – спрашивает меня ВГ.
– Вроде бы неплохо, – отвечаю уныло.
– Что значит «неплохо»? Есть же экзаменационные оценки
– На пятерки.
– Что, пятерки по всем экзаменам»?! – удивляется ВГ. – А почему секретарь говорит, что Вам все некогда, да и разговаривать Вы с ним отказываетесь?
– Поймите меня, пожалуйста, общежитие, которое мне дали, находится вне Москвы, в городе Лосиноостровский. Каждый день нужно полчаса, чтобы дойти через лес до станции. Потом с трудом втиснуться в электричку, потом в метро и доехать до «Кировской». И вечером – также, назад. А занятий у нас каждый день 9-10 часов. Возвращаюсь я домой затемно. Какие тут собрания?
ВГ, обращаясь к секретарю:
– Тогда у меня к Вам вопрос. А Вы делали Оганесяну какие-нибудь предупреждения, вели с ним беседы?
– Мы проголосовали единогласно, – занервничал секретарь, – вот протокол.
– Вы проголосовали единогласно за исключение отличника из Комсомола? – в голосе ВГ зазвенели стальные нотки (как явственно я их услышал! – Прим. МВКУ). – Тогда мне не ясно, как нам готовить первоклассных специалистов, которых ждет страна? Нет, так дело не пойдет. Я – против вашего решения!
Воцарилось молчание
Не менее был удивлен и я сам. Вот это да! Такое не забывается. Ведь это был 1951 год! Забегая вперед, хочу сказать, что, голоса членов бюро разделились поровну: четыре – «за», четыре – «против», А так как у ВГ, как Секретаря парткома, было полтора голоса, чаша весов перевесила в его и мою пользу.
Эти события происходили всего через полгода моего обучения. После первого семестра лишь одна треть продолжила учебу в ММИ, Такую строгую экзаменационную сессию нам тогда устроили. Правда, тех, кто не прошел, принимали в любой другой институт Москвы без экзаменов. А у меня, к великому счастью, одни пятерки! В те времена исключение из комсомола означало автоматическое исключение из института (да еще и закрытого) с самыми трагическими последствиями!
Возвращаясь к этому, незабываемому заседанию Парткома…
– Если мы сами будем выгонять из института отличников, останутся только комсомольские работники, – еще раз твердо говорит ВГ.
- Я не оправдываю Оганесяна за то, что он уклоняется от общественной работы. Если он ее не делает, по тем или иным причинам, то эту работу делает за него кто-то другой. Поэтому предлагаю:
1. вместо исключения из комсомола, изменить взыскание на выговор с первым и последним предупреждением. Именно так - сказал ВГ, глядя в сторону секретаря комсомола.
2. Дайте ему конкретное поручение. Через полгода на заседании Бюро комсомола послушайте его отчет. Если он окажется таким, как вы говорите, злостным нарушителем, тогда вернемся к вопросу об исключении из комсомола. Если справится и выполнит задание, то рассмотрим вопрос о снятии выговора, который сегодня вынесем.
Это был последний вопрос в программе заседания бюро Парткома ММИ, ВГ поблагодарил всех заподготовку и участие и закрыл заседание.
Истори эта, однако, имела продолжение, о котором я тогда даже не мог догадаться. Этот злопамятный комсомольский секретарь решил дать мне «невыполнимое» поручение, быть агитатором на выборах в Верховный совет СССР. Я должен был агитировать жителей окрестных с ММИ домов. А сам ММИ, как известно, расположен в здании бывших ВХУТЕМАС по улице Кирова (теперь Мясницкая) дом №21 прямо напротив Главного почтамта Москвы. Я, конечно, совершенно не представлял, своих избирателей, они же и мои слушатели, которые после моей агитации, стремительно ринутся отдать свои голоса блоку коммунистов и беспартийных!
А вокруг знаменитых ВХУТЕМАС, стояли и стоят старинные краснокирпичные «красные» дома, В них до революции жили богатейшие дворянские, купеческие и артистические фамилии Москвы. Вот в эти дома со списком, кто там живет, я и пошел агитировать жильцов. Против каждой фамилии владельцы квартиры должны были расписаться в том, что я там был, выступал перед ними, отвечал на их вопросы, даже что-то им советовал и прочее. Словом, они должны были быть готовы идти голосовать к урнам. Первым в списке избираемых кандидатов стоял И.В. Сталин. Если не стоял, то благодарные избиратели иногда сами его вписывали. Прихожу в «красный» дом и поднимаюсь на второй этаж. Звоню. Открывает высокая женщина в роскошном шелковом халате с дымящейся папиросой в длинном мундштуке в зубах.
– Что Вам угодно, молодой человек?
– Вы знаете, я агитатор, – Дверь сразу захлопнулась.…
Нажимаю кнопку звонка еще раз.
– Но вы же должны понять, что агитаторов мы не принимаем!
– Если Вы меня не впустите, меня выгонят изинститута…
Ей явно понравилось сказанное и стало интересным! А я подумал, какая же «контра» живет в этом доме. И даже не подозревал, что спустя тридцать четыре года после Октябрьской революции, в самом центре Москвы, совсем рядом с моим институтом живут люди, которые открыто, эту Советскую власть ненавидят.
– Выкиньте из головы, молодой человек, что мы будем за эту власть голосовать. За кого, собственно, вообще мы должны голосовать?
– Я несчастный агитатор, – говорю. – Может, и попал совсем не туда. Хотел быть архитектором, а пошел в физики. И вот, несмотря на то, чтохорошо учился первое полугодие, собираются выгнать, потому что завалил им общественную работу.
Дама налила мне чаю, начала расспрашивать: откуда я, кто мои родители, чем они занимаются, почему меня одного отпустили в Москву и прочее, и прочее.
- Дайте, пожалуйста, ваш список избирателей. Это жильцы нашего дома и нашего подъезда. Я соберу их всех у себя, а вы будете приходить в назначенное нами время, чтобы нас «агитировать», - поморщилась дама. «Сколько раз нам это надо делать?»
-Три раза, если позволите. Больше я не выдержу!
-Мы тоже,- воскликнула дама.
Когда перед выборами я принес заполненные анкеты о своей агитационной работе с подписями всех моих избирателей в Комитет комсомола института, все были поражены! Оказывается, из года в год жильцы этих «окрестных домов» агитаторов просто на порог не пускали и, конечно, ни в каких списках никогда не расписывались.
Выговор с меня сняли, да и секретарь вскоре сменился. С той поры я запомнил ВГ как очень смелого человека, в какой-то степени спасшего мне жизнь! А знакомы мы были от силы двадцать минут.
Я все время вспоминаю также, какая интересная и странная публика жила в этих старинных домах …
– А Вы знаете, Юрочка, - говорит выручившая меня дама, – у меня два мужа!
– Но официально, то есть по паспорту, может быть только один муж?
– А Вы посмотрите мой паспорт, там, где семейное положение.
Смотрю в паспорт, а там действительно два мужа! Паноптикум какой-то… (Смеется. – Прим МВКУ).
– А может, мы их, Ваших мужей, тоже сагитируем?
Дама задумалась.
– Одного, может, и сможем, а второго – точно нет…
Потом я благополучно учился в своем институте, который поменял название на МИФИ. На летние каникулы ездил к родителям в Ереван. В Армении, в ту пору, на высокогорной станции, что на горе Алагез, широким фронтом шли исследованиякосмических лучей. Там, постоянно собирался весь цвет советской, а часто и международной науки. В этом обществе о ВГ отзывались очень высоко. Его очень уважали, особенно молодые ученые. Вот в этом обществе я услышал обо всех его научных достоинствах. (А я помню отцовские клееные деревянные горные лыжи, на которых он катался на Алагезе. И его фотографию в кепке и заправленных в лыжные ботинки теплых спортивных шароварах. Молодого, загорелого и худого. – Прим. МВКУ).
Вы просите меня, Миша, рассказать о ВГ. Но то, что сказано выше, это лишь один эпизод в далекие, его молодые годы. А мы, вспоминая о нем, невольно раскрываем его образ. А этот образ почти совсем не раскрыт, потому что потом, после молодости, в зрелом возрасте, им было сделано много более значимого и в значительно большем масштабе. Ведь совсем скоро, после описанных выше, трагикомических событий ВГ стал ректором МИФИ...В возрасте всего тридцати пяти лет!
Время это было необычным. Необычным в том смысле, что старшие мои товарищи были старше меня лет на десять. В сыновья я им не годился, а до них совсем не дорос. Они пришли с фронта и вдруг почувствовали, что никому особенно не нужны. И поняли, что надо учиться. А ушли они на войну кто прямо после школы, а кто, не доучившись, из института. И теперь кто-то из фронтовиков поступил в МИФИ. В наших группах была половина таких «старичков» и половина таких «сопляков», как я. То есть половина прошла войну, а половина рванула в институт со школьной скамьи. Но жили мы очень дружно. Очень интересно, что по отношению к старшим мы были, как бы это сказать, максимально «подтянуты» и никогда не позволяли себе вольностей. И фронтовики относились к нам очень уважительно, безо всякой тени превосходства. Я не помню ни одного случая, чтобы они сделали мне замечание.
Согласитесь, что этот рассказ о ВГ имел и эмоциональную окраску. Пришел человек с фронта. Он никого уже не боялся. И, совершенно меня не зная, бесстрашно за меня вступился. Поэтому мне запомнилась эта встреча с ВГ на всю жизнь. С тех пор мы никогда не виделись. Он стал первым ректором МИФИ, а потом председателем Высшей аттестационной комиссии при Совете министров СССР. Но дело совсем не в этом. Понимаете, хотя и разница в возрасте между нами была всего десять лет, но эти десять лет – разница между жизнью и смертью. Я для этого фронтового поколения был «хвостом», но хвостом, который очень крепко за них зацепился.
С той поры прошло много лет. Однажды, в 1971 году после моей лекции в Гейдельберге, ко мне с трудом пробился молодой человек и спросил:
– Я учусь в педагогическом и институте и буду преподавать физику. Что мне надо сделать, чтобы научиться ставить такие же, как у Вас, фантастические эксперименты?
– Надо опять учиться, – говорю я ему. – Перестаньте преподавать, поступайте в университет и учитесь, не теряя времени. Тогда Вы и сможете ставить такие же опыты.
Прошло еще, наверное, лет пятнадцать, и ко мне на банкете после конференции в Токио подходит высокий молодой человек с красавицей-женой.
– Помните молодого человека в Гейдельберге? Это был я. Запомнив Ваше напутствие, я поступил в Университет и стал заниматься наукой. В университете я познакомился со своей будущей женой. Она тоже научный работник. Мы оба уже защитили диссертации. У нас два сына. Вы, профессор, своим советом определили мою жизнь. Всей нашей семьей, сердечно Вас благодарим. Вот бокалы с вином, давайте выпьем!
Тогда я вспомнил и те двадцать минут встречи с Виктором Григорьевичем Кирилловым-Угрюмовым, которые сохранили меня и изменили всю мою жизнь.
А теперь и мы давайте-ка выпьем!
Вечером мы возвращались в Москву. Меня не оставляло ощущение, что я только что повидался с отцом. Который знал цену каждой минуты жизни. Что уж говорить про целых двадцать минут…
Отдельной историей в судьбе ВГ был Обнинск. Там жила бабушка Анастасия Семеновна Жукова, переехавшая в новый город из Малоярославца. ВОбнинске была запущена первая в мире атомная электростанция АЭС. С тех пор мою двоюродную бабушку Анастасию Семеновну Жукову иначе как АС со слышимым посередине «Э» и не звали. АС в зловещие тридцатые годы прошлого векапреподавала русскую литературу и была директором школы в Малоярославце. В 1931-ом году в соседней с бабушкой деревянный дом приехала из Москвы новая большая семья. Это были священник Михаил Шик с женой Натальей Шаховской и их четверо детей. Отец Михаил был выселен из Москвы, как «непоминающий». А последним местом его служения стал храм Святителя Николая у Соломенной сторожки около моего с Наташей дома в Москве. (Когда мы с женой нашли моим родителям квартиру рядом с нами в Москве, Никольский храм стал первым, в котором отец начал воцерковляться). Ну а в 1937-ом отца Михаила Шика забрали из Малоярославца и вскоре расстреляли на Бутовском полигоне. Не побоявшаяся угроз моя бабушка коммунистка Анастасия Семеновна Жукова взяла всех осиротевших детей отца Михаила Шика и Натальи Дмитриевны Шаховской в свою школу и дала им лучшее по тем временам начальное образование.
На базе Лаборатории «В» в Обнинске был создан Физико-энергетический институт (ФЭИ), в настоящее время Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ имени А. И. Лейпунского). Академик Александр Ильич Лейпунский стал основателем школы физиков-ядерщиков в Обнинске и первым деканом Инженерно-физического факультета ММИБ, заложив фундамент для будущего Московского инженерно-физического института. Под руководством Лейпунского в ФЭИ были разработаны ядерные реакторы на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем – основы двигательной установки для легендарной атомной подводной лодки К-27. В ФЭИ проходили подготовку инженеры-подводники, обслуживавшие реакторы на АПЛ. В рацион подводников почему-то входила вобла, хранившаяся на атомоходах в огромных консервных банках. Ничего вкуснее той воблы, которую дарили отцу подводники, я не ел.
Теперь портрет Александра Ильича Лейпунского, которого связывала с ВГ давняя дружба и сотрудничество, встречает мифистов в холле второго этажа центрального корпуса института в галерее «Отцов-основателей МИФИ». Эти карандашные портреты создала моя жена Наталья Захарова по немногим сохранившимся фотографиям. Оригинальные рисунки, к несчастью,пропали, и остались теперь только их дурного качества ксерокопии.
В Обнинске в однокомнатной квартире у бабушки АС я проводил многие летние месяцы. Читая по вечерам огромную книжку «Вечера на Хуторе близ Диканьки» с иллюстрациями Александра Алексеевича Агина. И лакомясь на бабушкиной кухне солеными рыжиками и «пьяной» морщинистой вишней. Но праздник наступал тогда, когда меня забирал к себе Иосиф Титович Табулевич. Когда раздавался звонок в дверь квартиры АС, сначала слышался чудесный запах большого мороженого судака. Это был аромат праздника моего детства – из каких-то волшебных «ЗАКАЗОВ».
«Титыч» был для меня, конечно же, дедушкой. Добрым и беззаветно бабушку АС, отца и меня любящим. Я еще не знал тогда, что «дедушка» был одним из главных исполнителей репараций с Германией после Второй мировой войны, Наркомом, а затем министром коммунального хозяйства Советской Украины а потом – до конца жизни Заместителем директора Физико-энергетического института по общим вопросам и капитальному строительству. Титыч был одним из первых ведущих строителей и хозяйственных деятелей Обнинска, получивший неофициальныйтитул «Отца города». Титул – по-настоящему народный. Жили Иосиф Титыч Табулевич и его жена Галина Александровна в большом деревянном доме прямо у охраняемой автоматчиками двойной колючей ограды ФЭИ. С тыльной стороны дома Табулевичей простирался огромный птичий двор, обустроенный с малороссийской основательностью его хозяина. Какой только живности там не было – и утки с гусями, плескавшимися в огромных деревянных корытах, и разноцветные куры, и надменные индюки с фиолетовыми соплями, и пестрые цесарки, взлетавшие к моему удивлению на старые яблони в соседнем саду, и пушистые кролики. Но главное – Иосиф Титыч выносил нам с братом Андрюхой трофейное немецкое оружие: СС-овскую генеральскую саблю, на эфесе которой злобными красными глазами посверкивала позолоченная голова льва – брату, и огромный СС-овский кинжал с покрытым геральдическими письменами огромным лезвием, – мне. И мы с братом рубили наотмашь острейшими немецкимиклинками Золинген крапиву и заросли ивняка вдоль забора, всеми своими детскими силами воображая, что окончательно добиваем фашистского гада… Но вот с террасы дома раздавался строгий голос Галины Александровны: «За сто-о-о-л!» И мы усаживались за старинным столом, с белоснежнойКузнецовской фарфоровой супницей и … Наступал совершенно явственный мир «Старосветских помещиков»…
А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?
— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых?
— Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками.
Это был мир, где царили две Пульхерии Ивановны – Галина Александровна Табулевич и Анастасия Семеновна Жукова. И Афанасий Иванович – Иосиф Титович Табулевич. Отец этот мир боготворил. При том, что ему было почти все равно, что есть. Он был аскетом и никакие оттенки еды и быта его абсолютно не интересовали. Но Обнинскиебабушки волновали ВГ необычайно. Он точно знал, что это – самое ласковое и самое верное, что есть в его жизни.
Заповедями Христа Евангелие от Матфея говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Отец не собирал свои сокровища на земле. Оттого, например, в МИФИ – великом в Советские времена центре атомного образования,при ректорстве ВГ была создана единственная в стране Школа джаза МИФИ под управлением Юрия Петровича Козырева. А преподавали в этой Школе саксофонист Алексей Козлов, пианист Игорь Бриль, трубач Герман Лукьянов и еще многие, и многие из сонма знаменитых джазовых музыкантов. В семидесятые-восьмидесятые годы прошлого тысячелетия, когда все сотрудники «ядерного колледжа» имели Вторую Форму допуска секретности (!!!), в институте читали лекции по культуре – Сергей Аверинцев, по архитектуре – Алексей Комеч, по реставрации – Савва Ямщиков. В Актовом зале МИФИ устраивались премьеры фильмов Андрея Тарковского и Отара Иоселиани, мультфильмов Сергея Алимова и Юрия Норштейна. ВГ создавал синергию науки, философии и искусства, без которой полноценная инженерно-физическая школа была бы ущербной. Каждый месяц институт выделял по воскресным дням автобус, на котором я возил студентов и сотрудников МИФИ по московским и подмосковным монастырям и храмам. Рассказывая об этом, я отчетливо слышу позвякивание белоснежной фарфоровой супницы на террасе Табулевичей за рассказами бабушек о великом художнике Петре Кончаловском, с которым они были дружны. Там же на «Кончаловском кладбище» бабушки и похоронены.Около могилы А.Лейпунского.
В конце шестидесятых годов прошлого века в нашем институте был создан удивительный строительный отряд – «Реставрационный отряд МИФИ», который под руководством великого архитектора-реставратора и знатока древнерусской архитектуры Сергея Сергеевича Подъяпольского и его ученика Николая Владимировича Каменева восстанавливал Свято-Успенский Кирилло-Белозерский монастырь. В так называемые «богоборческие» времена ведущий учебный институт атомной отрасли СССР по инициативе его ректора Кириллова-Угрюмова В.Г. восстанавливал крупнейший на Севере православный монастырь!ВГ был председателем Совета ректоров Москвы – и вот уже Московский государственный университет взялся помогать восстановлению Соловецкогомонастыря… Все «бойцы» Реставрационного отряда МИФИ проходили обязательную строительно-реставрационную практику на Крутицком подворье. Лили гипсовые формы, обрабатывали огромные красной глины кирпичи и вырубали деревянные кружала для будущих каменных арок разрушенных церквей. Сотни будущих и действующих физиков прошли удивительную школу, о которой грезил отец Павел Флоренский. В этой школе наука, светская культура, философские воззрения, искусство и церковные догматы становились единым целым. На Крутицком подворье мы учились понимать живое сопротивление материала, «слышать скрип гусиного чернильного перышка», с которого начинались великие русская поэзия и литература. Ничего не бывает случайным, и не случайным было то, что Павел Флоренский был профессором физики и математики ВХУТЕМАС, в здание которых после Великой Отечественной Войныпереехал будущий МИФИ. И не случайно то, что спустя не так уж много лет после отцовского ректорского служения, институт дал стране не только блестящую плеяду ученых и руководителей атомной отрасли, но и поэтов, и дипломатов и более семидесяти священнослужителей Русской православной церкви.
В этом горении был весь отец! При том, что он очень огорчался тем, что я никогда не состоял членом КПСС. Моя свободная от партийных ограничений жизнь была для него неприятна, но чрезвычайно интересна. Мы жили вместе, тогда уже на Арбатской улице Танеевых в Москве. Он был в поднебесье – в чине Председателя Высшей аттестационной комиссии при Совете министров СССР, созданной и подчиненной непосредственно Председателю совета министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину. И тяготился многими из своего нового окружения советскими боссами смертно! Всякий раз, когда вальяжные чиновникисобирались на родительской квартире выпивать, отец стучал в дверь моей комнаты и показывал им фотографии Соловков, Псково-Печерского монастыря, работы Зверева и Булатова, рисунки Ефима Честнякова, автографы Беллы Ахмадулинной, картины друзей и кованые мною в кузнице Всеволода Петровича Смирнова во Пскове черные вороненые розы. Во Пскове у моего друга и учителя Всеволода Петровича Смирнова я жил второй своей жизнью. Там в семидесятые годы я и крестился. Крестным моим стал замечательный русский писатель и литературный критик Валентин Яковлевич Курбатов. Обо всех них отец осторожно знал. Но вдруг, однажды, сказал, а я приеду к тебе во Псков.
- Шутит , -подумал я. – Но отец был лихой человек.
И вот вскоре после этого разговора, снежной зимой поздних семидесятых годов звонит отец - Ну встречай во Пскове! Я обмер… Сева с вечера испек пироги с кружевными узорами, псковским голубем и датой приезда. В углу таинственно всплывали в мерцающей глубине огромных четвертей с «Флорентическим» самогоном ягоды рябины. Под кроватью от нетерпенья подпрыгивали жестяные банки с поспевшей ржавой селедкой… Я был счастлив.
Поезд Москва-Псков приходил рано утром. Я на Всеволодопетровичевой «Ниве» приехал на вокзал пораньше. Но вокзал был оцеплен. Коренастые мордовороты из оцепления брезгливо посмотрели на мое еще военных лет кожаное пальто, шляпу, длинные волосы и единодушно послали взашей.Издалека я видел, как из поезда вышли родители, референт А.Н.Косыгина и Главный архитектор Москвы М.В.Посохин. Отец беспомощно поискал меня глазами на зачищенном перроне и скрылся в машине. Я узнал, что гостей будут чествовать в ресторане «Аврора», который псковскими «девушками» именовался «Палубой», но мне и там дали под зад коленом. Только один великодушный вертухай согласился передать отцу записку. В ней я написал родителям, что свидеться нам не дают и мы уезжаем с Всеволодом Петровичем в его хутор скузницей в Малах под Изборском. Без всякой надежды нарисовал на всякий случай план как доехать. На душе было тяжко. Зачем родители не могли приехать одни? Потом только, спустя долгие годы, я многое понял. После нескольких лет нашего с отцом отчуждения во времена его пребывания на небесах советской власти, он просто стеснялся встретиться со мной наедине. Да и обняться, как прежде в детстве. А тогда – в то морозное и снежное утро в Малах мы сидели с Всеволодом Петровичем перед окошком, тихо выпивалиогненное «Флорентическое» и закусывали испеченным для родителей пирогом с вылепленным из теста вензелем со вчерашней датой. Вдруг в заметенном пургой полем я заметил две пробивающиеся через снег фигурки. Это были родители, невесть как ко мне добравшиеся. По пояс в снегу я рванул к ним навстречу. Обмел и обстучал их в сенях ивовым веником. Сева дал родителям большие серые валенки. Выпили и закусили котлетами. Солеными груздями и селедкой. Маму положили на горячую печку. Все эти приключения были ей совсем не по душе. А два воина, казалось, совершенно несовместимые, пили калиновый самогон. И я с ними. К ночи пурга стихла. Вышли с отцом на крыльцо. Покурить.
- Запахнись – сынок! Обнялись. Я ждал этого - «сынок» всю свою жизнь. Заснули в жарко натопленной избе. Счастливые… Утром проснулись от рокота грейдеров. Встревоженное псковское начальство прокладывало к нашему хутору дорогу. Отец привычно замкнулся
– Спасибо! До свидания… И вдруг, застенчивоменя обнял.
Но государственное время отца стремительно заканчивалось. Прежде было дурное предзнаменование. Построенное новое здание ВАК в Грибоедовском переулке приглянулось мадам Онассис, которая расписалась с одноглазым советским капитаном торгового флота, около центрального Московского ЗАГСа. И решила подарить жениху розового туфа соседнее с ЗАГСомздание ВАК. Слава Богу, роман Онассис и советского Билли Бонса оказался скоротечным, папе вернули здание ВАК, а капитану Кристина подарила в утешение самый большой в СССРнефтеналивной танкер.
В Высшей аттестационной комиссии СССР чаяниями А.Н.Косыгина и отца были сосредоточены все рычаги присуждения научных степеней и званий. Решения выносились силами профильных экспертных советов, ведомымисамыми уважаемыми в своей среде специалистами.Но военных это не устраивало. Они хотели иметь свою обособленную Аттестационную комиссию. И отца, который был категорически против этого местничества, стали травить. Чего только эти военные мерзавцы не делали – строчили донос за доносом в прокуратуру, дело дошло даже до того, что ВГ обвинили в «самостреле», чтобы уклониться от призыва на фронт. Заступиться за отца было уже практически некому. Ушел Алексей Николаевич Косыгин, ушел и министр СредмашаЕфим Павлович Славский. Стремительно гибла великая страна и топились в омуте ее созидатели. А мы с мамой поехали в Дмитров, где отец воевал, и нашли в музее Боевой Славы ВОВ его призывное свидетельство 1941-ого года и Справку о тяжелом ранении. Господи, это было чудо! Во всяком злом времени появляются и люди милосердные. И этим милосердным человеком стал судья из суда на Пятницкой улице, который рассматривал все доносы на отца. Увидев привезенные из Дмитрова документы, судья прекратил против ВГ делопроизводство и посоветовал нам (под своим водительством) возбудить дело против клеветников.Мы с родителями отказались. Нахлынула какая-то безнадежная усталость…
Родной МИФИ тоже стремительно менялся. Разрушалась и атомная отрасль и институт. И остался у ВГ последний в Университете островок, где его по-прежнему ждали. Но ВГ не мог долго жить в состоянии покоя и вот однажды, когда мы с ним выпивали на кухне уже последней родительской квартиры на Тимирязевской улице, я предложил ему: «Папа, а давай построим в МИФИ храм!» Он загорелся, как бенгальский огонь, и уже на следующий день заронил эту идею в Совете ветеранов, который и стал самым последовательным и верным православным центром Университета. Совсем скоро в помещении Совета стал еженедельно служить молебны удивительный батюшка из нашего Южного благочиния. В ту пору, еще до принятия предсмертного монашеского пострига, звали его отец Александр Петров. Подвижническая святость отца Александра была для меня несомненна. Он стал духовным движителем нашего храмоздательного движения, сплотив вокруг себя десятки выпускников, сотрудников и студентов НИЯУ «МИФИ». Но до решения руководства Университета и Ученого совета делать мы ничего не могли. И вот однажды, в тонком сне я услышал чей-то рассказ, как Игорь Васильевич Курчатов перед первым испытанием советской атомной бомбы молился перед иконой «Смоленской Божией Матери» в Новодевичьем монастыре. Ни подтвердить, ни опровергнуть мое вещее видение по понятным причинам было нельзя. Тогда я нашелеще и подлинные фотографии, и воспоминанияакадемиков Академического городка в Борке на Рыбинском водохранилище. Эти документы свидетельствовали о том, что великий физик и когда-то профессор МИФИ академик Лев Андреевич Арцимович был православным, а исповедовался, и причащался у чудесного старца отца Павла Груздева, храм которого в селе Верхне-Никульском стоял совсем неподалеку от Борка. На слиянии рек Ильди и Сутки. В Борок и в этот храм академик Арцимович и приезжал к отцу Павлу.Небесной поддержки двух столпов Атомного проекта было достаточно, чтобы защитить идею строительства православного храма в МИФИ на Ученом совете. Мы с отцом были счастливы. Но уже в самые первые годы Миллениума отца скрутила новая тяжкая болезнь. Ездить в родной МИФИ ему становилось все тяжелее. Но он всегда ходил со мной на службы в Храм Святителя Николая у Соломенной сторожки совсем неподалеку от нашего дома. И со смиренным терпением перенимал от меня нехитрые приходские навыки как поминать живых и усопших, прикладываться к иконам, как вести себя на службе, как готовиться к исповеди. Я чувствовал, что он упорно готовился к своей первой самостоятельной исповеди, которую святые отцы называли «вторым крещением». Но отец всегда был очень нетерпелив.
- Вот ты все занят, да занят! Справлюсь и без тебя.
И однажды он пошел совершенно один в Новоспасский монастырь. Почему, - наверное, потому что мы там несколько раз бывали по дороге в МИФИ. Но услышав колокольный звон, звавший на службу, остановился у паперти церкви Сорока мучеников Севастийских прямо против воротмонастыря. В церкви шла литургия. Служил протоиерей Максим Первозванский. Выпускник МИФИ… Посмотрев с амвона на прихожан, он вдруг увидел первого ректора своего родного института, смиренно и очень застенчиво стоявшего у свечного ящика.
- Господи! Виктор Григорьевич, да как Вы здесь?
- Хочу исповедаться, - твердо ответил папа.
- Пожалуйста, подходите ко мне!
Папа исповедовался за всю свою долгую жизнь. Не думаю, что исповедь ВГ была долгой… Замечательный отец Максим был прозорливым батюшкой и слушал покаянного моего отца сердцем.
А духовным отцом до конца дней был для ВГ отец Александр Шумский. С отцом Александром до самого его трагического ухода папа был близок необыкновенно. Тем более, что знал его с самого детства. В день гибели Сани исполнилось шестьдесят лет нашей с ним никогда не пресекавшейся дружбы! С отцом Александром ВГ ходил по грибы, выпивал и очень много разговаривал. Оба гордились тем, что были «служивыми» людьми и никогда не предавали память Советского времени и Советской государственности, как части великой Русской государственности вообще.
Строительства храма отец не застал. Не застал и его освящения в 2010-ом году. Сияющий на Патриаршем освящении нашего Домового храма МИФИ во имя иконы «Смоленской Божией Матери» - настоятель отец Александр Петровговорил, что теперь, когда у него есть освященный Патриархом Антиминс с частицами мощей святых мучеников, он может и «на пне служить». О том святом времени будет отдельный рассказ «Как мы строили Домовый храм МИФИ». В 2013-ом году отец Александр Петров, принявший монашеский постриг с именем Иова Анзерского, скончался.
Отца отпевал иерей Александр Шумский в храме «Николая Чудотворца в Хамовниках». На клиросах пели два хора – церковный и – МужскойАкадемический хор МИФИ, который отец так любил, и которым, как своим ректорским детищем, так гордился.
Кажется, рассказ о моем отце Викторе Григорьевиче Кириллове-Угрюмове надо бы завершить (хотя осталось так много недосказанного о маме, веселых театрализованных Новых годах, МИФИ, Спортивном лагере на Волге с царскими колесными пароходами, веселом Че Гевара с волшебным запахом кубинских сигар, о наших зимних рыбалках, и…)
Но вот рассказ в завершение. Отступя к истокам десятки лет назад… Традицией родителей были летние путешествия на машинах с близкими институтскими друзьями – Борковыми и Филипчукамим. Как-то мы остановились на польском хуторе в Литве на берегу огромного озера Дубиньгай. Ловили рыбу и собирали грибы. Поляки к нам относились вежливо, но безо всякой симпатии. Война закончилась не так давно и в лесу, говорят, еще промышляли литовские «Лесные братья». Августовским утром жаркого дня мы с папой причалили к берегу пособирать маслят. Корзины не взяли, и грибы собирали в кепки. Вдруг, за поворотом пыльной лесной дороги послышался рокот мощного мотора. Навстречу нам выкатился немецкий «Тигр» в окружении потных автоматчиков со Шмайсерами наперевес. Отец бросил меня в кусты, -Беги,_ и достал нож. А это какая-то киностудия снимала фильм про войну. Таким был мой отец Виктор Григорьевич Кириллов-Угрюмов.
