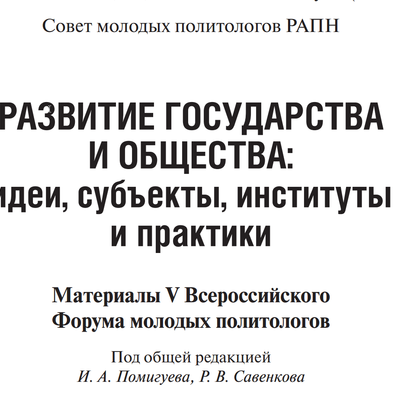
Подберезкина О. А. Евразийское измерение мировых политических процессов . . . . . 180
Год назад, в октябре 2017 г., полномочные представители Китая и Евразийской экономической комиссии подписали в г. Ханчжоу совместное заявление об официальном завершении переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству между КНР и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Тем самым был сделан
первый важный шаг в практической реализации достигнутых лидерами Китая и России (при поддержке других стран—членов Евразийского экономического союза) договоренностей о сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
Результатом переговоров станет достижение непреференциального торговоэкономического соглашения, затрагивающего проблематику таможенных процедур, содействия развитию торговле, прав на интеллектуальную собственность, межведомственного сотрудничества, государственных заказов, электронной коммерции, фитосанитарного и ветеринарного контроля, технического регулирования
и других вопросов. Это соглашение должно стать базовым документом, устанавливающим принципы и правила торговли между КНР и ЕАЭС, выступающим в качестве единого субъекта мировой экономики. Наряду с этим соглашение придаст импульс формированию секторальных форматов сотрудничества между Китаем и «пятеркой» стран, входящих в ЕАЭС. Подписание соглашения может состояться в ходе заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Циндао в июне 2018 г. либо во время встречи на высшем уровне в Астане во второй половине 2018 г.
Таким образом, весьма расплывчатый на первых порах термин «сопряжение» начинает обретать более четкие очертания благодаря запуску переговорных механизмов между КНР и странами ЕАЭС, а также разработке Евразийской экономической комиссией правил и процедур поддержки проектных инициатив, связанных с развитием сотрудничества между КНР и ЕАЭС. В связи с этим, как представляется, можно говорить о формировании первичной институциональной структуры сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.
Прежде всего, необходимо учесть, что само введение в 2015 г. в дипломатический лексикон понятия «сопряжение» указывало на необходимость решения нетривиальных политических задач. Первоочередная из них — поиск формата, в котором сформулированную в достаточно общих выражениях долгосрочную стратегическую инициативу трансконтинентального масштаба можно было совместить с уже реально функционирующими структурами и механизмами регионального экономического интеграционного объединения. Как справедливо отмечает С. Г. Лузянин, китайская инициатива вряд ли станет когда-нибудь институциализированным проектом — она, по всей видимости, останется инструментом экономического, инвестиционного, транспортного и гуманитарного освоения евразийского пространства.
ЕАЭС, как, впрочем, и ШОС, ориентирована на укрепление институциональных оснований. Эта структурная асимметрия, если не сказать эклектика, представляет
объективную трудность, с которой, тем не менее, можно справиться при условии общей заинтересованности и наличии политической воли к поиску оптимальных решений.
Другие задачи определялись политическими процессами на постсоветском пространстве и меняющимся соотношением сил в глобальном масштабе. Выступление Си Цзиньпина в астанинском университете имени Назарбаева, в котором была провозглашена стратегия формирования Экономического пояса Шелкового пути, состоялось в сентябре 2013 г., т.е. в момент, когда геополитическое соперничество между Россией и Европейским союзом в западной части постсоветского пространства приближалось к своей кульминационной точке. В этих условиях для Москвы было чрезвычайно важно исключить саму возможность того, чтобы усилия Пекина
по строительству ЭПШП следовали по стопам брюссельской программы «Восточное партнерство», с достаточным основанием рассматривавшейся российским руководством в качестве примера игры с нулевой суммой.
Сегодня не приходится сомневаться в том, что основной политический импульс договоренности о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС исходил из Москвы. Заявление лидеров России и Китая от 8 мая 2015 г. ориентировало на создание и запуск механизма прямого диалога между КНР и ЕАЭС по вопросам инвестиций, развития транспортно-логистической инфраструктуры, финансов и торговли (вплоть до создания в будущем зоны свободной торговли). Провозглашение курса на сопряжение ЕАЭС и ЭПШП стало указанием на то, что Москва и Пекин стремятся избегать соперничества и согласовывать свои интересы и в других частях постсоветского пространства, включая страны Центральной Азии, не входящие в состав Евразийского экономического союза.
В первые месяцы после российско-китайских переговоров на высшем уровне в мае 2015 г. сложилась довольно двусмысленная ситуация, поскольку Россия обсуждала с Китаем проблему сопряжения, не имея на это формального мандата других государств—членов ЕАЭС. Эта двусмысленность была преодолена в октябре 2015 г., когда Евразийский экономический совет принял Распоряжение «О взаимодействии государств — членов Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и экономического пояса Шелкового пути». Именно в этом документе отражена консолидированная рамках сопряжения ЕАконсолидированная позиция пяти государств—членов ЕАЭС по проблемам сопряжения. В частности, полномочиями по организации переговоров по подготовке соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем наделялись правительства стран—членов Союза совместно с Евразийской экономической комиссией, в увязке с этими переговорами предполагалось провести отбор приоритетных
секторальных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.
Выступление отражает результаты работы по исследовательскому проекту «Формирование
общего экономического пространства в Евразии: Исследование вопросов сопряжения
строительства Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического
союза», осуществляемого при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (Отделение гуманитарных и общественных наук) и Китайской академии
общественных наук (грант № 16-27-21001).
